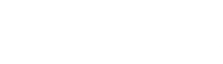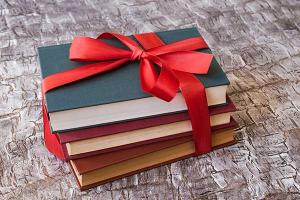А в нескольких километрах от деревни, на горе Сарыг-Хая (Желтая гора), таится месторождение агальматолита. Тувинцы называют его "чонардаш", то есть мягкий камень.
Колоритные фигурки животных, вырезанные из белого, красного и очень редкого черного агальматолита, побывали на многих зарубежных выставках. Это своего рода визитная карточка Тувы. Хотя сама деревня мало чем отличается от сел обычной глубинки. Те же расхлябанные дороги, лужи на каждом шагу. В 2002 году здесь собрались высокие чиновники и решили - надо присвоить Кызыл-Дагу особый статус. Признать деревню камнерезов национальным достоянием Тувы. И поставить дело на поток - открыть фабрику, наладить каналы поставок и масштабно торговать причудливыми статуэтками.
Ничего из затеи не вышло. Правительство поручило министерству культуры "подготовить вопрос" - и на этом все успокоились. Может, оно и к лучшему? Испокон века в Кызыл-Даге резали каменные фигурки - каждый мастер сам по себе, и вроде бы неплохо получалось. Сегодня в деревне работают 27 членов Союза художников России, 4 лауреата Госпремии имени Репина, народный художник РФ, заслуженные художники Тувы. Вряд ли какой-то другой поселок, тем более затерянный в горах, может похвастаться чем-то подобным.
Мастера потихоньку учат ремеслу подрастающее поколение. Так было здесь всегда - и сто, и триста лет назад. Кому-то первые навыки резьбы по камню преподал отец, кто-то занимался в детской мастерской. Их в деревне две - при школе и при дацане, буддийском храме.
- Я здесь родился, - рассказывает камнерез Бичелдей Кара-оол. - Насколько знаю, всегда у нас резьбой занимались и детей своих тому учили. Помню, когда совсем маленьким был, через забор перелезал и в окно подсматривал, как мастера работали. Подрос - взяли в дело. Теперь я и своих, и чужих детей учу. Хотя никаких специальных учебников не существует. Моему младшему сыну Сайыну всего 6 лет исполнилось, но он уже умеет стамеску в руках держать. Средняя дочь Сайлан недавно выиграла республиканский конкурс и ездила в Москву. Мои работы участвовали в выставках в Италии и Японии. Сначала их там показывали, потом продавали - ни одна фигурка домой не вернулась.
Дочка мастера, десятиклассница Сайлан, русские слова подбирает с трудом - в далекой деревне привыкли говорить на родном языке. Но общаться с ней - одно удовольствие. Она так широко улыбается, сверкает раскосыми глазами, что подкупает всех без исключения. В Москве вот тоже фурор произвела - отпускать не хотели, звали приехать еще. Наверное, и природное обаяние, и открытость сыграли свою роль, но не только в этом дело. В столицу приехали самые разные подростки-умельцы: лепят из глины, шьют, чеканят по металлу. Вот только камнерезов не было ни одного!
Сайлан хочет остаться в родной деревне и стать настоящим мастером - пока она, по ее же признанию, умеет еще не очень много. Если получится - будет первой женщиной-камнерезом. До сих пор жены своим мужьям, конечно, помогали, но не более того. Работать с камнем физически тяжело. К тому же его надо сначала добыть. На гору Сарыг-Хая обычно отправляются на несколько дней. Пешком примерно 3 километра поднимаются и, нагрузив камнями рюкзаки и сумки, идут вниз. Пока не стемнело, делают несколько ходок. А предварительно агальматолит необходимо еще и выкопать. Камни, которые лежат на склоне, засыпает снегом, заливает дождем, жарит солнцем - и они становятся хрупкими. Хороший материал находится в глубине земли, примерно в полутора метрах от поверхности. Но Сайлан - девчонка упорная. "Если чего-то очень хочешь - получится!" - уверена она.
Мастера в Кызыл-Даге столетиями не переводятся. В последние годы их стало даже больше. Потому что для большинства это основной вид заработка. Пока в соседних деревнях спиваются, здесь продолжают вырезать из мягкого камня лошадей и яков, снежных барсов и медведей, верблюдов и фантастических драконов. Видимо, так устроен этот мир.

Главу питерского муниципального округа «Дачное» Вадима Сагалаева и его заместителя Игоря Заболотного задержали по делу о тройном убийстве

Целый букет обвинений предъявила прокуратура Выборгского района Петербурга 35-летнему Максиму Шарипову. Бывший зампредседателя комитета по инвестициям Смольного обвиняется по трем статьям УК, связанным с взяточничеством....
Их задача – защита критически важных объектов

Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году россиян, пребывающих в мобилизационном резерве Воружённых сил РФ, на специальные сборы для защиты критических важных объектов. Документ размещён на сайте официального опубликования...
Речь идёт о Днепропетровской и Черниговской областях

Власти Черниговской и Днепропетровской областей Украины объявили обязательную эвакуацию жителей из ряда населённых пунктов. Она должна завершиться в течение месяца. Решение об эвакуации в Черниговской области было принято на совете обороны....
Ему запретили въезд в Россию сроком на 50 лет

Главу этнической диаспоры в Пермском крае лишили российского гражданства за угрозу национальной безопасности. Он был выдворен из страны, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности. «За совершение действий,...
Мода на все советское захватила россиян. Почему же нас так тянет в прошлое?

Один из трендов наступившего года — небывалый спрос на ретровещи эпохи СССР. То, что не так давно россияне массово тащили на помойку, теперь идет нарасхват. В моде снова шкафы и буфеты из 1960-1970-х....
Противник понёс их за минувшие сутки в зонах ответственности группировок войск «Центр» и «Восток»

В ходе специальной военной операции группировки «Центр» и «Восток» Вооружённых сил России уничтожили за минувшие утки без малого 700 украинских военнослужащих. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»...
Противник потерял более десятка единиц бронетехники и пять артиллерийских орудий

В ходе специальной военной операции группировки «Север» и «Юг» Вооружённых сил России уничтожили за минувшие утки более 400 украинских боевиков. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»...
Подразделения группировки войск «Запад» заняли Богуславку, группировки «Днепр» - Лукьяновское

В ходе специальной военной операции российские войска освободили два населённых пункта. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Министерства обороны РФ. Село Богуславку в Харьковской области...
Снос бывшего ТЦ у станции метро «Приморская» превратился в бесконечный аттракцион

Бурно началась новая сессия Законодательного собрания Петербурга. Хотя слушания по законопроекту губернатора об ужесточении ответственности для недобросовестных владельцев киосков вроде бы жарких дебатов не предвещали. Но в предвыборный...
Так называется подразделение национальной гвардии Украины

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили в Купянске бойцов украинского корпуса «Хартия», которые хвастались «освобождением» города. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Как сообщают российские...
Астраханскую область наводнили сайгаки

Акула в горах Кавказа Эколог Кабардино-Балкарского государственного университета Аубекир Хатухов передал в краеведческий музей уникальные находки. Экспедиция обнаружила в песчаных отложениях горной реки Черек зубы огромной ископаемой...
Прокуратура Москвы составила портрет среднестатистического преступника по итогам минувшего года. И вот что получилось

Итак, 81,4% преступлений пришлось на долю мужчин, всего более 25 тысяч случаев, на счету женщин 5 тысяч правонарушений. У большинства правонарушителей не было постоянного источника дохода. Преобладающий возраст —...
Розовые фламинго вернулись в Поволжье

Как спасали хаски Эта история с чудесным спасением сибирской хаски в горах Сочи может тронуть и черствые сердца. А все началось с того, что сотрудница железнодорожной станции сообщила о раненом волке, сбитом поездом...
Современная история о любви и о войне

Как же доставала нас, жителей московского района Люблино, эта компания «молодняка», оккупирующих по вечерам детскую площадку в нашем дворе. Пивасик, матерок, визг девчонок и прочие прелести: А когда эти «деточки»...
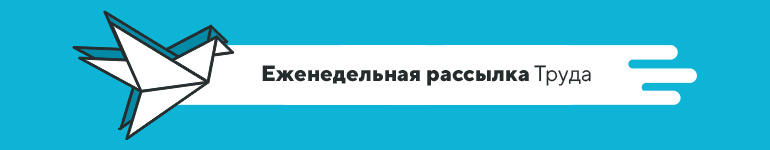
Коварная все-таки это вещь - затяжные праздники и каникулы. Настоящее испытание для семьи

Две недели тесного общения могут выдержать далеко не все пары, вот и статистика это подтверждает: в январе-феврале в загсах обычно фиксируют резкое увеличение числа разводов. Как будет на этот раз? Обратимся к данным...
Историк Александр Витковский рассказывает, как искал место, где в годы Гражданской войны было зарыто золото Колчака

В ночь на 7 февраля 1920 года на льду реки Ушаковки в Иркутске расстреляли Верховного правителя России адмирала Колчака. С теми днями связано немало тайн. За отгадками историк Александр Витковский отправился...