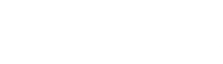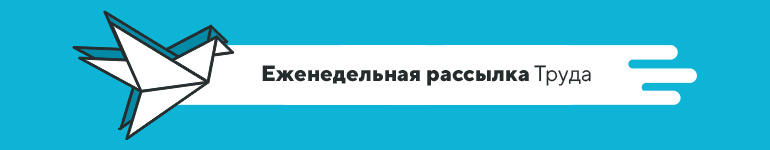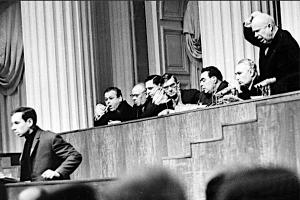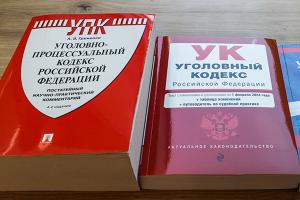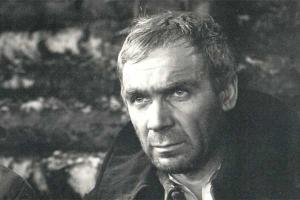260 лет назад в жизни Екатерины, которой еще только предстояло стать Великой, начался самый страстный и самый безрассудный роман. Род графов Бобринских, начало которому дала эта безумная любовь, по сей день хранит семейную память и поддерживает родовую вотчину в Богородицке.
1761-й выдался для великой княгини Екатерины Алексеевны особенно трудным. Жена наследника престола отлично сознавала всю шаткость своего положения — императрица Елизавета, относившаяся к ней доброжелательно, старела и слабела, а Петр Федорович лелеял мечту заточить нелюбимую супругу в монастырь. Чувство к Григорию Орлову стало не просто всплеском неукротимого темперамента Екатерины, но источником силы, которая и возвела ее на трон. Алексей, сын от горячо любимого Гришеньки, появился на свет в середине апреля 1762 года, а к началу июля в ее руках уже были сосредоточены основные рычаги государственной власти.
По легенде, мать, счастливо разрешившись от бремени, произнесла: «Богу — слава, жизнь — тебе». Фраза эта стала впоследствии родовым девизом графского рода Бобринских. Историки любят оспаривать предание о бобровой шубе, в которой новорожденного якобы тайком вынесли из Зимнего дворца. Ну так ведь в апреле колыбель кисеей не прикроешь: В любом случае — на фамильном гербе бобер присутствует.
Графом Бобринским Алексей стал в 12-летнем возрасте в соответствии с дворянской традицией именоваться по родовым владениям: имение Бобрики в Тульской губернии было приобретено по указу Екатерины для обеспечения будущности сына. Она же поручила знаменитому петербургскому архитектору Ивану Старову выстроить для Алексея сразу два дворца — в самом имении и в ближайшем городе, старинном Богородицке. Грандиозный замысел в Бобриках довести до конца не получилось, а вот богородицкий дворец, более скромный по размерам, стал украшением округи.
Выстроен он был на высоком холме над рекой Упёртой. Как у любого исторического здания, у него своя легенда. Екатерина, якобы заехав в гости к сыну, вышла на балкон и от восхищения открывшейся панорамой выронила из рук веер. Падая, он раскрылся, и императрица повелела, чтобы городские улицы на той стороне реки веером сходились к дворцовому холму. На самом деле монархиня в Богородицке никогда не была, но план города утверждала самолично. Оси пяти главных улиц действительно сходятся как раз в парадном зале дворца. Главную назвали Екатерининской, средние — Павловской и Мариинской, в честь наследника престола и его супруги, а крайние — Александровской и Константиновской, по именам старших внуков, которых государыня видела будущими властителями двух империй, Российской и Византийской (последнюю она надеялась восстановить).
Дворец, выстроенный Старовым, стал родовым гнездом четырех поколений рода Бобринских. Молодость Алексея Григорьевича прошла бурно, что неудивительно, учитывая неукротимые характеры его родителей. В Богородицк он приехал уже женатым, остепенившимся человеком. Судьбу свою Алексей нашел в Ревеле, куда матушка императрица «сослала» его — искупать прегрешения. Анна-Доротея была дочерью барона Унгерн-Штернберга, коменданта Ревельской крепости. Екатерина долго не хотела видеть сына в столице, но со временем решила укрепить его шаткое положение незаконнорожденного браком с одной из дочерей принца Баденского — из этого же семейства уже была выбрана жена для Александра, любимого внука Екатерины. Но Алексей с решением матери не согласился и в Петербург так и не приехал. Свиделись они лишь незадолго до кончины государыни — Екатерине пришлась по душе упрямая стойкость молодой четы. Мезальянс, заключенный по большой любви, оказался счастливым. Алексей-младший, Павел и Василий Бобринские дали начало трем ветвям рода.
После революции дворец национализировали, большую часть имущества отправили в Тулу. То, что осталось, стало экспозицией историко-художественного музея, занявшего всего несколько комнат. В остальных помещениях разместили детскую музыкальную школу. Вскоре музей закрыли, школе предоставили другое помещение, хозяйственные постройки и флигеля разобрали на кирпич, а во дворце открыли санаторий «Красный шахтер». В 1941-м здание было взорвано отступавшими фашистами. Уцелели цокольный и частично первый этажи. Дворец пролежал в развалинах до 1967 года. Инициаторами его восстановления стали Семен Александрович Потапов, в свое время возглавлявший трест «Калининуголь», и местный художник Петр Андреевич Кобяков. Поначалу все держалось исключительно на энтузиазме — люди приходили расчищать завалы в свои выходные. Пробить на государственном уровне восстановление гнезда царского отпрыска было непросто — Богородицк все-таки не Петергоф и не Царское Село. Но справедливость восторжествовала, и в 1988 году музей во дворце принял первых посетителей.
Правда, экспозиция была посвящена вовсе не Бобринским. Приурочили ее к 250-летию со дня рождения Андрея Болотова, основателя русской агрономической науки, который полвека управлял дворцовым хозяйством. Именно ему, Андрею Тимофеевичу, удалось водворить на русском столе картофель и томаты. В своих «Примечаниях о тартуфеле» Болотов дал подробные рекомендации по его возделыванию и употреблению в пищу. Немало научных статей посвятил он и «золотому яблоку», которое долгое время считалось только декоративным растением. Его стараниями вокруг дворца был разбит пейзажный парк, который многие специалисты считают первым в России.
Экспозиция, посвященная Бобринским, появилась во дворце всего несколько лет назад. В этом роду были выдающиеся государственные и общественные деятели, ученые, писатели, так что ему есть чем гордиться помимо родства с императорской фамилией. К началу ХХ века младшая ветвь давно угасла. Потомки старшей осели за границей: последний владелец дворца граф Владимир Алексеевич после революции эмигрировал во Францию. А вот средняя в революционных катаклизмах уцелела — Николай Алексеевич Бобринский был известным зоологом, профессором Московского университета. Его сын Николай Николаевич занимался географическими исследованиями, а в середине 1970-х взялся восстанавливать историю рода. Собранные им материалы и легли в основу фамильной экспозиции.
Нынешний глава этой ветви, выбравший своим поприщем защиту леса, всегда желанный гость в Богородицке. «История России складывается из историй отдельных семей, — убежден Алексей Николаевич Бобринский. — Но сколько фамильных вотчин лежит в руинах, а сколько вообще исчезло уже с лица земли! Богородицкий дворец — счастливое исключение. Люди, помогавшие его восстанавливать, работали добровольно, потому что для них наша история не пустой звук: Большинство же нуждающихся в спасении мест пребывают в запустении из-за бесхозяйственности и отсутствия искренне заинтересованных людей. Часть проблем могла бы решить реституция. Не ради того, чтобы кого-то осчастливить или обременить, а чтобы обеспечить неприкосновенность, защитить от разрушения и растаскивания. Общего рецепта для всех усадебных памятников, конечно же, не существует, значит, нужно искать индивидуальные. И немедленно. Иначе в самом ближайшем будущем все, что еще существует, пусть и в руинах, окончательно обратится во прах».