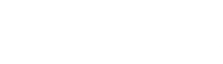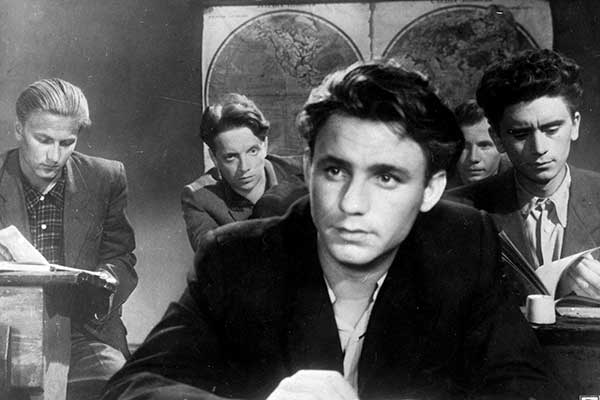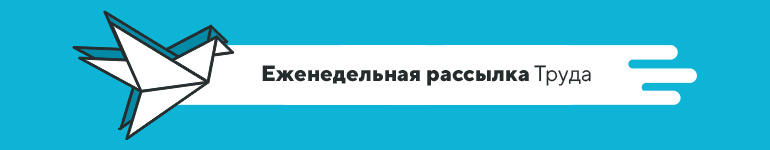- Как же вы, Карен Георгиевич, решились экранизировать "Палату №6"?
- Я должен сказать, что история с "Палатой" достаточно странная. Дело в том, что в 1988 году я познакомился с итальянским продюсером, надеявшимся снять совместное кино с советским режиссером, - тогда, в начале перестройки, это было очень модно. Она посмотрела мои картины: "Мы из джаза", "Курьер", "Город Зеро" - все они ей понравились. Тогда она предложила сделать фильм, где главную роль сыграл бы Марчелло Мастроянни, с которым у нее был контракт. Во время разговора первым мне на ум пришел Чехов как самый известный на Западе писатель. И я тут же предложил: давайте сделаем "Палату №6". Почему-то всплыло это название, хотя саму повесть я, честно говоря, не очень хорошо помнил. Продюсер тут же уцепилась. А дома я перечитал "Палату" и подумал: проговорился на свою голову, уж очень сложная вещь.
- Очень сложная. Для зрителя нет никакой зацепки, интриги. Как же вы вышли из этой ситуации?
- Во-первых, мы перенесли действие в современность, а во-вторых, придумали довольно необычную форму, но о ней я не буду рассказывать, потому что картину надо смотреть. Такая форма позволила нам взять квинтэссенцию чеховского рассказа и в то же время найти подходящую подачу, адаптированную для кино. Сценарий мы с Александром Бородянским написали очень быстро и поехали в Италию. Но оказалось, что наше видение Чехова местных продюсеров не очень устраивало. Они хотели классического Чехова с костюмами, каретами, манерами. И, в общем, они были правы, потому что то, что мы придумали, для мегазвезды уровня Мастроянни было слишком смело. В результате мы полтора месяца проспорили: они нас убеждали сделать традиционную картину, а мы доказывали необходимость "кино не для всех". Так мы и расстались, не договорившись.
- Как воспринял эту ситуацию Марчелло Мастроянни?
- А с Мастроянни мы познакомились, пообщались. Он каждый вечер к нам приходил, мы выпивали по рюмке граппы за разговором. Оказалось, что он готов сниматься и в нашей интерпретации. Но: не сложилось. Сценарий так и пролежал 20 лет. Честно говоря, я даже не думал, что когда-нибудь за него возьмусь. В финальной сцене "Исчезнувшей империи" я снимал Володю Ильина, и он мне так понравился, что я подумал: он сейчас в отличной форме, сможет Рагина сыграть.
- Вы могли предполагать, что Промыслом вам предопределено работать в Общественной палате, в комиссии по культуре, где собрались, наверное, самые неорганизованные люди на свете - творческие единицы: Федор Бондарчук, Василий Лановой, Вадим Самойлов...
- Ужасный состав. (Смеется.) Сплошь люди творческие: один на гастролях, другой на съемках - ты же не можешь им приказать все бросить. Конечно, для каждого из них, как и для меня, на первом месте стоит работа. Для меня главное - то, что снимаю я и "Мосфильм". Он тоже часть творческого процесса. Это то, что я понимаю, чем я живу, мое дело. А остальное - есть свободное время - можно и позаниматься. Конечно, что-то мы делаем. Но я вам скажу мысль, может быть, дерзкую для моих коллег: чем старше я становлюсь, тем больше прихожу к убеждению, что руководить культурой должны бюрократы, а не сами деятели культуры. В этом смысле, кстати, советская власть права была.
- В чем же?
- Как раз в том, что руководили бюрократы. И, нужно сказать, руководили неплохо. Другой вопрос, что надо подбирать таких бюрократов, какими были Николай Сизов или Филипп Ермаш. У меня с ними сложные отношения были, но должен отметить, что картины, созданные при их продюсерстве, до сих пор идут по всему миру. И тому же Тарковскому они давали деньги на производство его фильмов. Для таких должностей мы сами очень субъективны, очень эгоистичны, слишком ревнивы и эмоциональны.
- Вы упомянули "Мосфильм". Насколько сильно вас задел кризис? Пришлось сокращать людей, останавливать производство?
- Кризис коснулся, но мы его достаточно успешно выдерживаем. Конечно, по сравнению с прошлым годом произошел определенный спад в съемках, потребовалось много усилий, чтобы удержаться. Но сейчас мы загружены довольно хорошо: у нас работают 90% павильонов, то есть почти все. Большие декорации есть. Зарплату люди получают, мы никого не сокращаем, развиваться - развиваемся и тратим деньги на новые технологии. Я знаю, что у кого-то сложнее ситуация, но судить не берусь.
- А для того, чтобы работать в кино или театре, обязательно учиться во ВГИКе или в ГИТИСе?
- Вы знаете, конечно, бывают исключения, когда сверхталантливый энергичный человек может работать в кино и так. Но в принципе желательно иметь академическое базовое образование. Оно помогает. В конечном счете, всегда видно, есть образование или его нет. Еще один немаловажный фактор - это везение.
- Сыновей настраиваете на базовое образование?
- Да.
- Они планируют пойти по стопам отца, в кино?
- Старший хочет. Но он еще совсем молодой, не знаю, как сложится его будущее. Кроме того, на него влияет моя профессия: не думаю, что он вполне осознанно двигается в этом направлении. Но, в конечном счете, пусть пробует себя.
- А вы могли бы им посоветовать: "Ваня (или Вася), я считаю, что тебе не стоит идти в кино"?
- Как раз Вася - младший - не факт, что пойдет в кино. У меня такое ощущение, что он в другую сторону нацелился, но тоже все может измениться. А старший - ну как ему скажешь, если я сам в свое время никого не слушал? Я был совсем не из киношной среды, мне скорее в МГИМО или в Иняз надо было поступать, а я пошел во ВГИК.
- Ваши родители были против ВГИКа?
- Нельзя сказать, что они были рады. Другое дело, они не препятствовали. Но я сейчас понимаю, что для них это был момент какой-то неопределенности. И вообще надо понять, что в кино очень трудно пробиться. Сегодня, уже с высоты своих лет, могу сказать, что кино - самая рисковая профессия в мире. Самая рисковая.
- По-вашему, пробиться - дело случая или работоспособности?
- Все вместе. Это та профессия, где имеет значение и элементарное везение, и случай плюс работоспособность и определенная склонность. Во всяком случае, тем, кто хочет работать в кино, а таких много сейчас, могу сказать: риск очень большой. Если из ста один пробьется, это будет хорошо. Даже из того ВГИКа, в котором я учился, мало кто стал работать в кино. Просто работать, я даже не говорю об успехе. А ведь можно стать режиссером, снимать картины и не иметь особого признания. Но в кино важно признание, успех - гораздо важнее, чем в любой другой профессии. Поэтому те, кто идут в кино, должны понимать, что они очень рискуют: может ничего не получиться. И гораздо больше шансов, что ничего не получится. Кстати, и у меня был момент, когда я хотел уйти из кино.
- Когда это было?
- В самом начале. Помню, снял первую картину "Добряки", и она не то что провалилась, но не принесла никакого успеха. А потом был период, когда года три я никак не мог запуститься. Рядом ребята начинали гораздо успешнее, а я постоянно предлагал идеи на совете, но ничего не проходило, ничего не получалось. Я уже не понимал, что со мной не так. Один раз я даже запустился с какой-то картиной, но ее закрыли. Я хорошо помню, что у меня был момент, когда я для себя решил: надо уходить.
- Случай помог?
- Помог фильм "Мы из джаза". Хотя и он тоже с большим трудом начинался. Долго сценарий не мог пройти худсовет, мы постоянно что-то дописывали. Начали съемки, но было видно, что наша картина - последняя на "Мосфильме", и отношение чувствовалось. Но потом она вышла, и тогда у меня был действительно большой успех - и зрительский, и фестивальный. А после фильма все потихоньку стало образовываться. Но это был момент достаточно непредвиденный. И не будь тогда успеха, я бы, скорее всего, ушел. Потому что с моими амбициями я никогда не хотел оставаться в третьем эшелоне кино.
Наше досье
Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в армянской семье в Краснодаре. В 1975 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Известность как режиссеру и сценаристу принес вышедший в 1983 году музыкальный фильм "Мы из джаза". В конце 80-х - начале 90-х такие фильмы Шахназарова, как "Курьер" (1986), "Город Зеро" (1988) и "Американская дочь" (1995), становятся символами поколения перестройки. Член Общественной палаты Российской Федерации. Женат, есть трое детей.