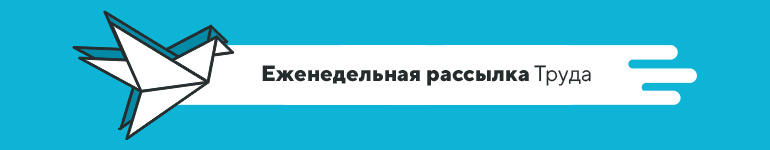Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра исполнили в зале «Зарядье» Четвертую симфонию Шостаковича. Прекрасное событие, но, наверное, не единственное среди подобных? Как сказать. Много ли найдется композиторов, поведавших нам столько о времени и нас самих? А из симфоний Шостаковича найдется ли другая, самой своей судьбой отразившая изломы этого времени? Да еще представленная в таком мастерском исполнении. Да еще накануне дня рождения Дмитрия Дмитриевича...
Неловко признаваться, но я часто (сам в себе) удивляюсь, что кто-то не знал Шостаковича, не застал его при жизни, не видел воочию, не слушал его произведения в присутствии автора, который всегда старался на этих исполнениях быть.
И оттого, наверное, когда музыка Шостаковича звучит как живое дыхание, непосредственное высказывание вольной драматургии чувства, начинает казаться, что Дмитрий Дмитриевич присутствует в зале, все слышит, сопереживает артистам в их, порой непомерных, профессиональных испытаниях, на которые он, автор, их обрек.
Хорошо помню Дмитрия Дмитриевича на концертах Евгения Александровича Мравинского с его великим Заслуженным коллективом республики Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии. Звучала ли музыка Шостаковича или сочинения иных авторов, Дмитрий Дмитриевич при каждой возможности бывал на тех концертах (однажды в памятном для меня 1973 году сидели рядом и даже обменивались впечатлениями)...
Впрочем, сейчас мысли мои и чувства — в осеннем, 2024 года, московском зале «Зарядье», в концерте Валерия Гергиева с оркестром Мариинского театра. Звучала Четвёртая симфония Шостаковича, а перед симфонией, как некий философский «предикт», сочинение Оливье Мессиана «Вознесение» — четыре медитации для оркестра примерно из того же времени (1933), что и Четвёртая Дмитрия Дмитриевича (1934-1936).
Музыка Мессиана, удивительного французского композитора ХХ века, мастера глубинных религиозных состояний («Отец, час пришел, прославляй Сына, чтобы Сын прославлял тебя»; «Мы Тебя умоляем, о Господь...Сделай, чтобы мы духом жили в небесах»; Вспышка радости души пред лицом Славы Христа, которая и ее Слава«; «Отец... Я, перед людьми проявил Твое имя. Вот меня нет больше в этом мире; но они в мире, а я иду к Тебе») редкостно и благоговейно подготовила нас к встрече с Четвёртой симфонией Шостаковича — созданием особенной судьбы; музыкой, грандиозной в своей пронзительности и проникающей звуковой стихийности едва ли ни космического масштаба. Здесь — «чувствовидение» человека, несущего весь мир в одном себе.
История с исполнением Четвёртой хорошо известна — премьера предполагалась 11 декабря 1936 года в оркестре Ленинградской филармонии под управлением Фрица Штидри, но композитор отменил ее, якобы из желания доработать финал.
Время шло, рождались и исполнялись новые сочинения Шостаковича. Черед Четвёртой симфонии настал лишь 30 декабря 1961 года, когда её впервые исполнил оркестр Московской филармонии под управлением Кирилла Петровича Кондрашина.
Значение этого события в нашей музыкальной жизни четко осознавалось. Я был в том знаменательном концерте. Помню, как уговаривал редакторов архипопулярной в ту пору «Недели» (воскресного приложения к газете «Известия») дать выразительную фотографию дирижирующего Кондрашина во всю заглавную полосу «Недели», и это было сделано.
Самое полотно Четвёртой симфонии тогда (во всяком случае мною) было воспринято прежде всего как важное историческое прибавление к «пространству Шостаковича», которое все ширило свой психологический простор и казалось нескончаемой реальностью.
Но снова шагнуло время, и музыка Шостаковича стала жить своей, во многом новой жизнью, уже без автора среди нас.
И вот сейчас всего за какие-то две недели до дня рождения композитора — вдруг! — в «Зарядье», в этот особенных очертаний новый в Москве концертный зал влетело, казалось, само, без всяких усилий дирижера и музыкантов огромного оркестра (многочисленно, авторской волей, усиленного по сравнению с традиционным инструментальным составом) живое создание из нежданно сопрягаемых голосов-взглядов, ослепительно ясное в своих органических, не придуманных, горящих и умолкающих «словозвуках» — явление природной художественной силы, воздействующей, поднимающей, погружающей и вновь возносящей своей сердечной энергией.
Все три величавые части Четвёртой, самоценные в своем исповедальном откровении, выступали, пережив краткую паузу, «вперёд», каждая с новообретенной энергией Рассказчика-автора, словно внушающего самому себе, вовсе не другим, это великое толстовское «Не могу молчать»...
«Не могу молчать» Шостаковича-Гергиева — без осуждающего всея вокруг, уже ненужного пафоса.
Но в нем — собирающая очистительная воля к преодолению самого себя, подавляющих страхов реальности; постигающая, в горении своем, не только себя, но всех и, может быть, всё вокруг.
Словом — «весь мир в одном себе» (формулу эту произнес однажды Дмитрий Дмитриевич в разговоре с Чингизом Айтматовым, когда зашла у них речь о том, может ли родиться новый Шекспир. Айтматов высказал сомнение, а Шостакович надежду: может, но должен тогда нести весь мир в одном себе)...
Место мое в амфитеатре оказалось очень удачным: оркестр и дирижер были далеко, я не видел лиц музыкантов, но видел инструменты в чьих-то волшебных руках — и воздух, большое пространство вокруг!
Казалось, пространство и звучало — скрипки, виолончели, флейты, вся медь словно парили в воздухе, а Гергиев воспринимался как знак музыки, ее олицетворение, но и её творение в таинственно длящимся «сотворении».
Валерий Гергиев в современном искусстве симфонического дирижирования, как и театрального, в опере — явление реально загадочное: чудесная многоохватность поразительно гармонирует в нем с протяжённой поступательностью, без ускорений и видимых напряжений.
Какое-то непрестанное внутреннее движение будто интуитивно, само расставляет темповые обозначения и все необходимые «указатели дороги», всякий раз отдельно, специально для данного случая и всегда убедительно.
Гергиев ведет ансамбль не «по праву первого», а как удостоенный сотоварищами в оркестре (или на сцене) высокого доверия-чувства, «равный среди первых».
Гергиев внутри музыки, он ее как бы заново открывает, «освобождает» к живой жизни звуки, до времени заключенные автором в страницы партитуры, без суеты (ее не терпит этот осторожный процесс) рождает внутренний посыл каждому музыканту. В этом оркестре царит вдохновляемая дирижером атмосфера коллективной интуитивной медитации — и рождается музыка!
Мне вдруг начинало порой казаться, что за пультом Евгений Александрович Мравинский...
Чудо, конечно, но нечто объективно прекрасное, что жило в Мравинском, открылось чуткому сердцу Валерия Гергиева!
И в звучании его оркестра мне слышится то, что когда-то я слышал у Мравинского: внушаемая иллюзия свободы от реального процесса звукоизвлечения — звуки словно сами рождаются, с неба падают, никто их не «произносит» с инструментом в руках...Исполнение Валерием Гергиевым и симфоническим оркестром Мариинского театра Четвёртой симфония Дмитрия Шостаковича возвысилось до откровения. И казалось, что Дмитрий Дмитриевич с нами в зале, слушает свою давнюю музыку в этом, новом для него, и таком «включающем» звучании.
...Когда замерла и погасла в ниспадающей тишине заключающая нота этой шостаковичской эпопеи, зал долго-долго молчал, может быть, целых пять минут...
Такое случается редко.