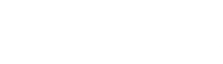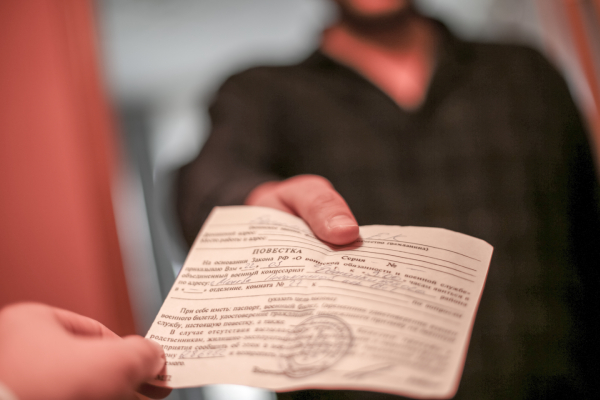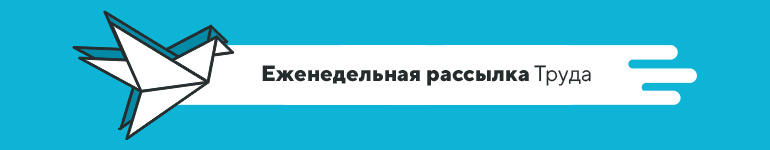Новый доклад Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка (ИНВЭБ) еще раз подтвердил загадочность нашей экономики. В работе «Развитие рынка труда и его связь с научно-технологическим развитием» говорится, что если во всем мире кризисы приводят к росту безработицы, то у нас ничего подобного не происходит: занятость сохраняется, зарплаты растут, рабочее время увеличивается. Правда, не по всей стране.
Оказывается, в депрессивных регионах уровень безработицы может быть выше, чем в регионах-донорах в 6-7 раз и даже больше. Так, по Росстату, в Москве безработица составляет всего 0,9%, а в ряде регионов Северного Кавказа и в моногородах показатели безработицы превышают 20-25%. О чем это может говорить? Когда у нас с высоких трибун заявляют о безудержном развитии, речь о средней температуре по больнице, которая не учитывает застой или деградацию в целом ряде регионов. А попутно специалисты ВЭБа констатируют: в России кризис.
Никак не роднит нашу страну с развитыми экономиками и высокий, вдвое выше, чем у них, уровень неформальной занятости — 15-22%. Но это, как говорится, полбеды. А беда в том, что мы сильно отстаем от мирового технологического и цифрового развития, и это отставание усугуб-ляется. Например, в РФ используют шесть промышленных роботов на 10 тысяч работников, что в десятки раз ниже, чем в Германии (346), Японии (364) или Южной Корее (932). Не говоря уже про Китай, который, по данным Дойче Банка, является лидером в области автоматизации: около 70% промышленных роботов в мире установлено в КНР.
При этом производительность труда, делается вывод в докладе, в России остается на уровне 35-40% от показателей развитых стран, что обусловлено опять же технологическим отставанием. По оценке ИНВЭБа, темпы структурных изменений экономики в России отстают от мировых. В странах — лидерах цифровой трансформации доля занятых в наукоемких отраслях равна 25-30%, в России — не более 18%.
Ежегодно в развитых экономиках до 3-4% рабочих мест автоматизируются — в России это происходит вдвое медленнее. Но если учесть вышеприведенные данные, то в докладе ИНВЭБа приведена завышенная оценка. Кроме того, в стране растет дефицит специалистов с цифровыми навыками и современными компетенциями, что становится одним из ключевых ограничений экономического роста.
Система образования адаптируется к новым требованиям с запаздыванием, потому что значительная часть программ не соответствует актуальным запросам рынка труда, заключают в ИНВЭБе.
Впрочем, о какой адаптации речь, если наше образование идет вразрез с мировой тенденцией? Согласно докладу, в России неуклонно сокращается число людей, занятых в образовании и науке. Если в 2014 году их было соответственно 5091 тысяча и 802 тысячи, то в 2024 году стало 4734 тысячи и 673 тысячи.
Вообще, что касается образования, то эти проблемы очевидны. И не только в том плане, что наша образовательная система не обеспечивает технологическое и цифровое развитие. «Труд» не раз писал о крайней озабоченности наверху дефицитом врачей и учителей, а также тем, что государству никак не удается заставить выпускников педагогических и медицинских вузов работать по профессии. Не помогают никакие контракты, целевые наборы и прочее. Это и понятно. При капитализме, тем более при нашем, где главным мерилом успеха являются деньги, невозможно принудить людей работать за нищенские зарплаты или же содержать себя и семью, разрываясь на трех работах. Странно, что государственным мужам это непонятно. Однако обеспечить, согласно указам президента, зарплату в этих отраслях выше средней по региону опять же никак не удается. Согласно докладу ВЭБа, разница в зарплатах в секторах образования по регионам составляет 3-4 раза. Как это вообще может быть в единой стране, живущей по одним законам и правилам? При этом, как сообщает ИНВЭБ, труд педагога в России оценивается более чем в 2 раза ниже, чем, например, во Франции, и почти вдвое ниже, чем в Чехии.
И вот вместо повышения зарплат учителям и врачам в Госдуме родили закон, который должен ограничить прием студентов на платные отделения вузов по тем специальностям, которые государство сочтет неприоритетными. То есть депутаты хотят лишить, например, бизнесмена, руководителя IT-компании, окончившего Технический университет имени Баумана, возможности получить экономическое образование для развития его бизнеса.
А в это время США и Китай соревнуются, кто больше подготовит специалистов в области так называемой STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). «Считается, что американская наука проигрывает — и проигрывает прежде всего гонку за глобальное лидерство в области STEM», — заявила не так давно президент академии наук США Макнатт. Это понятие было изобретено в США и означает комплексное образование, объединяющее естественные науки и инженерные предметы в единую систему. В ее основе интегративный подход: биологию, физику, химию и математику преподают не по отдельности, а в связи друг с другом для решения реальных технологических задач. Такой подход учит рассматривать проблемы в целом, а не в разрезе одной области науки или технологии.
Но куда нам до этого, физику и химию в объеме средней школы выучить бы. Впрочем, у нас уже считают, что и это — прерогатива избранных. Во исполнение прогноза Минтруда, который счел, что к 2030 году в вузы должны будут идти 30% школьников и учащихся колледжей, а остальные 70% будут учиться на рабочих, Госдума фактически затруднила путь к высшему образованию учащимся колледжей. Поправки в закон «Об образовании», которые начнут действовать уже с нынешней осени, как считают специалисты, еще больше законсервируют нашу технологическую отсталость.
Действительно, когда развитые страны, в том числе и Китай, идут по пути автоматизации рабочего труда, Россия намерена победить в технологической гонке числом, увеличивая набор на рабочие специальности. В то время как Китай обходит ведущие западные страны по числу ученых, специалистов НИОКР, конструкторов, вообще людей с высшим образованием, мы почему-то решили, что умные и образованные люди нам не нужны — нужнее те, кто хорошо владеет гаечным ключом и отверткой. На манер знаменитого Левши, который подковал «аглицкую» блоху. Подковать одну блоху мы сможем, но наладить массовое производство современных чипов — вряд ли. Для этого нужен не Левша, а высокообразованные инженеры и организаторы производства.
Вряд ли российские руководители в курсе, что в США и Китае идут к увеличению продолжительности школьного образования до 12 лет. Кстати, в Китае уже сейчас больше выпускников научных и инженерных вузов, чем в остальном мире вместе взятом, за исключением Индии. Именно это, как считают на Западе, обеспечивает технологическое лидерство этой страны. «Поэтому, если не возникнут чрезвычайные обстоятельства, рост технологического доминирования китайских компаний вряд ли удастся остановить в краткосрочной перспективе», — считает Дойче Банк.
Положа руку на сердце, можно сказать, что подобные доклады сильно расходятся с выступлениями наших руководителей и пропагандистов, которые беспрестанно убеждают общество: все идет по плану, страна успешно двигается к намеченным целям — правда, не совсем понятно, к каким.
Кое-кто даже может подумать, что и нынешний доклад ИНВЭБа — пустяк, не стоящий высокого внимания. Между тем он опубликован за авторством Андрея Клепача, главного экономиста госкорпорации развития ВЭБ.РФ, доктора экономических наук и бывшего замминистра экономического развития России. А руководителем ВЭБ.РФ является Игорь Шувалов — тоже не последний человек в российской власти. Судя по всему, тревога наверху за развитие страны возрастает. Все чаще люди вынуждены говорить то, что есть, а не то, что хочется видеть начальству.
Что касается нашего рынка труда, то можно сказать, что системные провалы в российской госполитике пытаются исправить еще более утопическими, недееспособными и опасными нововведениями. И куда они нас приведут, одному богу известно. Как следует из доклада ИНВЭБа, точно не к высотам технологического лидерства и экономического развития.